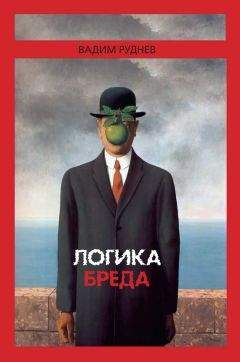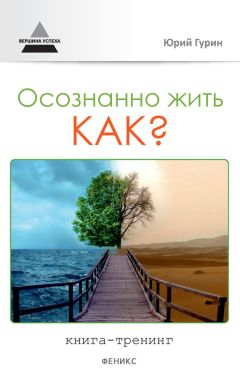Елена Титова - «… я восхищаюсь делами рук Твоих»
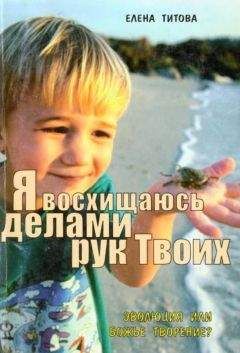
Обзор книги Елена Титова - «… я восхищаюсь делами рук Твоих»
«… я восхищаюсь делами рук Твоих»
Эта небольшая по объему, но в то же время чрезвычайно емкая и содержательная книга поднимает много вопросов, связанных с возникновением нашей планеты и с развитием на ней жизни. Чувствуется, что книга написана специалистом, для которого данная тема является близкой и знакомой. В то же самое время книга будет понятна и, наверняка, интересна для весьма широкого крута читателей. Автор собрал воедино целый спектр вопросов и ответов, связанных с креационизмом — наукой о творении. Доступная и популярная манера изложения, большое количество ярких и убедительных примеров, свидетельства выдающихся ученых разных времен — все это делает чтение книги живым и увлекательным. По правде сказать, если бы я был эволюционистом и верил, что все сущее возникло само собой, жизнь возникла спонтанно, а человек произошел от обезьяны, то чтение этой книги поколебало бы мою уверенность в своей правоте. Уверен, что многим людям эта книга поможет ответить на самые главные вопросы: кто мы? Откуда мы? Куда идем?
О. А. Жиганков, доктор философских наукВ этой книге, иллюстрирующей аргументы сторонников и противников креационизма (науки о творении) и эволюционных теорий, показан совершеннейший Творец, высочайший Специалист во всех известных человечеству областях науки и практики — наш Господь. Показана любовь, с которой Он создавал существующий мир на радость Себе и Своим мыслящим творениям. Параллельно представлена жалкая попытка человеческой гордыни объяснить шедевр Божьего творения «промыслом слепого случая» и других «инструментов» эволюции. Несостоятельность такой точки зрения иллюстрируется приведенными закономерностями из многих областей науки. Указано, что автор наиболее популярной эволюционной теории Чарльз Дарвин понимал ее ущербность — отсутствие «переходных» форм. Такие формы не найдены по сей день и не могут быть найдены, так как по законам генетики, физиологии и других биологических наук не могут существовать. Справедливо замечено, что Дарвин предсказывал крах своей теории в случае доказательства невозможности образования сложных органов в результате многочисленных малых изменений. Невозможность этого процесса доказана, так как изменения должны быть согласованными и одномоментными, вероятность же таких событий нулевая. Как всякая фальшивка, эволюционная теория «требует» множества подтасовок и «натяжек», которые показаны в книге. Так, время — один из основных столпов эволюционного процесса — очень сильно преувеличено. С этой целью сторонники эволюционной теории изобрели свой критерий определения геологического возраста осадочных слоев — степень сложности животных форм, найденных в том или ином слое. Этот метод не выдерживает никакой критики, но предоставляет эволюции миллиарды лет. Данные же других методов определения возраста Земли и осадочных слоев упорно игнорируются. Согласно же большинству из них, Земле не более 10 000 лет. А изучение ДНК митохондрий, с учетом скорости мутаций в них, показало, что человек появился на Земле не раньше 6–6,5 тысяч лет назад. Показана очевидная несостоятельность выбора мутаций в качестве инструмента при «создании» более совершенных форм. Поскольку мутация — это повреждение наследственной информации на хромосомном или генном уровнях, то ничего, кроме вреда, слаженному «механизму» живого организма она принести не может. Как показала практика, носители мутаций отличаются резко пониженной жизнеспособностью и чаще всего бесплодны. О какой конкурентоспособности их в борьбе за существование может идти речь?
Акцентируя внимание на непреодолимой пропасти между человеком и другими творениями, автор указывает еще на один камень преткновения эволюционной теории — наличие у человека таких вредных для конкурентной борьбы качеств, как любовь, альтруизм, ряд нравственных и духовных ценностей. Это может быть объяснено лишь Словом Божиим, которое свидетельствует не только о том, что человека создал Господь, но и о том, что Он создал его по Своему образу и подобию. Какая честь! Автор правильно резюмирует, что принятие точки зрения эволюционистов обесценивает человека, его жизнь, лишает его вечности. Удачно подобранные цитаты из Библии и высказывания известных ученых показывают, что во всех сложных и спорных вопросах «возникновения» существующего мира Слово Божие дает ясный и достоверный ответ. И что большинство авторитетнейших ученых (в числе которых Ломоносов, Эйнштейн и др.) признавали авторитет Библии неоспоримым. Автор подводит к выводу, что поскольку эволюционная теория противоречит фундаментальным законам естествознания, а главное — Библии, то она не может быть верной. В заключительной главе автор, несколько отойдя от эволюционных теорий, показывает самоотверженность Творца в защите и очищении Его творения, Его жертвенную любовь, изгоняющую порожденную грехом смерть. Автор повторяет призыв Господа: «Покайтесь и придите ко Мне» и предупреждает, что если мы примем эволюционную доктрину и безбожие, то не только останемся без цели и смысла в земной жизни, но и без великой надежды на жизнь с любящим и совершеннейшим Творцом в вечности.
Книга весьма полезна, так как показывает величественную панораму Божьего промысла, пробуждает радость от причастности к Великому Творцу у людей верующих и, надеюсь, может породить желание склонить голову перед Ним и «породниться» с Ним (стать Его дитем) у людей неверующих.
Л. И. Понятовская, кандидат биологических наукГлава 1
Планета Земля — счастливая случайность или великий замысел?
«Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он – Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее; не напрасно сотворил ее: Он образовал ее для жительства…»
Ис. 45:18Карл Линней, шведский биолог: «И я прочел следы Его на творениях Его».
Михаил Васильевич Ломоносов: «Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость и величие Бога».
В окружающем нас мире мы находим убедительные свидетельства о существовании Бога–Творца, о том, что Земля и жизнь на ней во всех ее бесчисленных и многообразных формах не возникли случайно, а есть результат разумного творения. В самом деле, объективные законы природы неоспоримо указывают на то, что мир создан на разумных началах и во Вселенной существует строгий порядок. Нобелевские лауреаты в области квантовой физики Поль Дирак и Эрвин Шредингер отметили следующее: «Самым фундаментальным свойством природы представляется то, что основные физические законы описываются математическими теориями величайшей красоты и силы, требующими математического знания высочайшего уровня… Бог — великий математик, и Он в сотворении Вселенной использовал математику высочайшего уровня».
Задумаемся о совершенном и невероятно сложном устройстве нашего тела. Сравним любое творение человеческих рук с творением Божьим в природе. Например, компьютер и мозг человека. В человеческом мозге имеется приблизительно 10–12 миллиардов нервных клеток (нейронов), каждая из которых связана с 10 тысячами других нейронов, что дает в целом порядка 100 триллионов соединений. Мозг обрабатывает более миллиона сообщений в секунду. А если сложить все информационные процессы, происходящие в человеке, сознательные и подсознательные, то получим, что в день обрабатывается количество информации, превышающее общее знание человечества в миллион раз. Не правда ли, впечатляет? А разве можно сравнить видеокамеру и человеческий глаз?
Обратим внимание также на удивительную особенность мироздания — его красоту и гармонию. Откуда такое многообразие форм, звуков, цветов? Задумайтесь, какими сложнейшими механизмами (такими, например, как биосинтез белка или деление клеток) обладает живой организм. Изумителен по своему замыслу механизм фотосинтеза у зеленых растений, позволяющий улавливать солнечную энергию и запасать ее в органических веществах. Какой гениальный Инженер спроектировал эти механизмы и воплотил их в жизнь? Здравый смысл подсказывает: нелепо думать, что все это создалось по воле случая само собой. Скептик может возразить: «Ну, это общие на эмоциях рассуждения. А где доказательства? Наука утверждает, что все в природе сформировалось эволюционным путем в течение длительного времени через постепенные изменения от простого к сложному». Так ли это на самом деле?
В ученом мире происхождение мироздания и жизни, в частности, сводят принципиально к двум моделям: с Творцом или без Него, сотворение, описанное в Библии (книга «Бытие»), или эволюция (креационизм и эволюционизм). Самих эволюционных гипотез — великое множество, они разнятся в зависимости от того, что понимается под движущими силами эволюции и каким образом они действуют. Ряд гипотез пытается примирить эволюцию и сотворение и отводит в эволюционном процессе определенную роль Богу. На чьей же стороне научные факты?